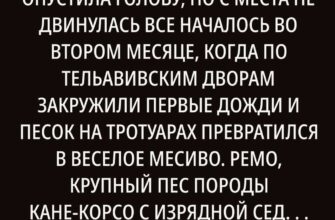Когда маленького Итайя Бен-Шимона выписывали из роддома в Ашкелоне, акушерка сказала его матери: «Какой крепыш! Настоящий герой вырастет». Мать ничего не сказала. Уже тогда она смотрела на свёрток так, будто это не её ребёнок.
Героем Итай так и не стал. Он стал «лишним». Тем, которого вроде бы родили, а что с ним делать никто не знает.
Опять твой чудной сидит в песочнице, всех разогнал! кричала с балкона тётя Нурит, главная активистка двора и предводительница местных сплетниц.
Уставшая мама Итая, с потупившимся взглядом, кое-как отвечала:
Не нравится не смотрите. Он никого не трогает.
Итай действительно никому не мешал. Он был крупным, немного неловким ребёнком, всё время с опущенной головой и длинными руками, свисавшими вдоль тела. В пять лет молчал. В семь издавал только звуки. В десять начал говорить, но голос был хриплым, надломленным.
В школе его сразу посадили за самую дальнюю парту. Учителя только тяжело вздыхали, глядя в его безразличный взгляд.
Бен-Шимон, ты меня слышишь вообще? спрашивала учительница математики, стуча маркером по интерактивной доске.
Итай кивал. Он действительно слышал, просто не видел смысла отвечать. Всё равно поставят “שלוש” лишь бы статистику не портить, и отпустят с миром.
Одноклассники его не били побаивались. Итай был крепкий, как молодой телёнок. Но и не дружили: обходили стороной, как обходят глубокую лужу после дождя. С отвращением.
Дома было не лучше. Отчим, появившийся, когда Итаю исполнилось двенадцать, сразу дал понять:
Чтобы я его тут не видел, когда домой с работы прихожу. Ест как взрослый, пользы никакой.
Итай исчезал без следа. Бродил по стройкам, сидел в подвалах соседних домов. Он научился быть незаметным. Это было его единственное умение сливаться со стенами, с серым бетоном, с пылью под обувью.
В тот вечер, когда его жизнь изменилась, по Ашкелону моросил неожиданный зимний дождик. Пятнадцатилетний Итай сидел на лестнице в подъезде на Кирьят-Яам, где жил между пятым и шестым этажом. Домой идти нельзя там у отчима гости, шумят, курят на балконе, и, скорее всего, прилетит тяжёлая рука.
Дверь напротив скрипнула. Итай вжался в стену.
На площадку вышла Тамар Эвьон. Одинокая женщина, за шестьдесят, но осанкой двадцать. Весь двор считал её странной: не сидела с соседками, не обсуждала цены в суперах, всегда ходила с прямой спиной.
Она посмотрела на Итая внимательно не с жалостью, не с неприязнью, а оценивающе, как на сломанный прибор, размышляя, можно ли его починить.
Ну и чего сидишь? спросила она низким, уверенным голосом.
Итай пожал плечами.
Просто.
Просто котёнок родится, отрезала она. Есть хочешь?
Итай всегда хотел есть. Подростку требовалась еда, а в холодильнике дома хоть мышей выращивай пусто.
Ну? Я дважды не зову.
Он поднялся, растерянно выпрямясь, и пошёл за ней.
Квартира Тамар отличалась от других: всюду книги на полках, на столах, даже на полу. Пахло старыми страницами и чем-то сытным, мясным.
Садись, кивнула она на табурет. Помой руки сначала, вот там мыло хозяйственное.
Итай молча помыл руки. Она поставила перед ним тарелку с картошкой и жареной курицей настоящей, с крупными кусками. Он не помнил, когда ел что-то, кроме сосисок из «Шуферсаль» на скидке.
Он ел торопливо, почти не прожёвывая. Тамар смотрела на него, подперев подбородок рукой:
Не спеши. Никто не отберёт. Жуй желудок спасибо скажет.
Он замедлился.
תודה, пробурчал и вытер рот рукавом.
А салфетки у нас для кого? Рукава не для этого, она подвинула ему пачку. Дикий ты, парень. Где мать?
Дома. С отчимом.
Поняла. Лишний в семье.
Сказала это просто и спокойно словно «идёт дождь» или «арбуз подорожал».
Слушай, Бен-Шимон, вдруг строго произнесла Тамар, у тебя есть два пути. Можно пустить жизнь на самотёк, слоняться по подъездам и исчезнуть. А можно собраться, использовать свои силы по уму. Сила есть, я вижу, а в голове пусто.
Я тупой, честно ответил Итай. В школе говорят.
В школе много что говорят. Программа для обычных умников. А ты не обычный, ты другой. А руки откуда растут?
Он посмотрел на свои ладони широкие, с натёртыми костяшками.
Не знаю.
Вот узнаем. Завтра приходи кран мне чинить. Протекает, а вызывать сантехника разоришься. Инструменты дам.
С этого дня Итай ходил к Тамар почти каждый вечер сначала кран чинил, потом розетки, замки, потом даже мебель чинил. Оказалось, его руки действительно «золотые»: он чувствовал, как действует механизм, понимал внутренности любого прибора интуитивно.
Тамар не нянчилась, а учила строго, по делу:
Не так держишь! Кто так отвёртку держит как ложку? Давай с упором!
Била по рукам деревянной линейкой. Больно, но работало.
Она давала книги не школьные, а про людей, которые выживали несмотря ни на что: про путешественников, изобретателей, первопроходцев.
Читай. Голова должна работать, иначе зарастёт пылью. Ты думаешь, только ты такой? Таких, как ты, миллионы было. И выбирались. Ты чем хуже?
Постепенно он узнавал о ней больше. Тамар проработала всю жизнь инженером на элитном заводе на севере. Муж рано ушёл, детей не было. Завод закрыли после приватизации, перебивалась от пенсии и редких переводов технических текстов. Но не сломалась, просто жила прямая, строгая, одинокая.
У меня никого нет, как-то сказала она. И у тебя, считай, тоже. Только это не конец, а начало. Понимаешь?
Он не очень понимал, но кивал.
Когда Итаю исполнилось восемнадцать, он получил повестку в армию. Тамар позвала его поговорить серьёзно накрыла стол, почти празднично: с домашней выпечкой, с кофейником и халвой.
Слушай, Итай, впервые назвала его полным именем. Назад сюда нельзя. Пропадёшь. Это болото утянет: здесь всё по кругу тот же двор, те же сплетни, та же безысходность. Отслужишь ищи себя где-то ещё. Едь на север, работай на стройках, куда угодно. Только не возвращайся, слышал?
Слышу, кивнул он.
Вот тебе, протянула конверт. Тут тридцать тысяч шекелей. Всё, что скопила. На первое время хватит, если с умом. Запомни: ты никому ничего не должен, кроме себя. Стань человеком, Итай. Ради себя, не ради меня.
Он хотел отказаться, но, увидев её взгляд твёрдый, серьёзный понял: нельзя. Это первый взрослый урок.
Он ушёл.
И не вернулся.
Прошло двадцать лет.
Двор изменился. Старые исламские деревья спилили, всё заасфальтировали под паркинг, лавочки стали железными, рассыпались. Дом постарел, облицовка кое-где отвалилась, но стоял всё так же упрямо, как старый человек.
К дому подъехал чёрный джип. Из него вышел мужчина высокий, крепкий, в дорогом, но скромном пальто. Лицо обожжённое ветром, взгляд уверенный, спокойный.
Это был Итай Бен-Шимон, или Итай דוד, как его теперь называли. Владелец крупной строительной фирмы на севере Израиля. Сто двадцать работников, три больших проекта, репутация честного строителя.
Он поднялся наверх с самого низа: разнорабочий, потом бригадир, позже начальник. Учился вечерами, получил диплом инженера. Копил, инвестировал, рисковал. Два раза всё терял и дважды поднимался. Те тридцать тысяч, что дала Тамар, давно вернул отправлял деньги каждый месяц. Она ругала и грозилась не брать, но они приходили.
Потом переводы начали возвращаться «לא נמצא הנמען» «адресат не найден».
Он стоял во дворе, глядя на окна пятого этажа. Там было темно.
Женщины под подъездом сидели новые, лица незнакомые. Старые ушли
Простите, обратился он к одной, вы не знаете, в сорок пятой квартире кто теперь живёт? Тамар Эвьон?
Женщины оживились: такой мужчина, да ещё на такой машине!
Слушай, חביבי, тамар одна почти шёпотом, болеет сильно. Память совсем ушла, путается во всём. Квартиру каким-то родственникам переписала, а сама уехала в мошав. Дина, помнишь, куда?
В Мааган Михаэль, вроде, отвечала другая. Там старый дом, якобы племянник ухаживает. Хотя какой племянник? Всю жизнь одна была. А квартиру продают.
Итай похолодел знал такие истории: находят старика, войдут в доверие, оформят дарственную, потом в заброшенный дом доживать, если вообще доживать.
Где этот Мааган Михаэль?
За Хадерой, километров сорок. Дорог плохой, но проехать можно.
Он сел в машину и поехал.
Мааган Михаэль полумёртвый мошав: три улицы, полдома заброшены, дороги размыты. Жителей десяток стариков да парочка семей. По описанию нашёл нужный дом: старый, со сползшим забором, грязь во дворе, на верёвке сушится бельё.
Итай открыл калитку. Скрипнула.
На крыльцо вышел мужик небритый, в изношенной майке, с мутным взглядом.
Что тебе? Заблудился?
Тамар Эвьон где?
Какая ещё Тамар? Нет у нас тут такой. Иди своей дорогой.
Итай не стал спорить. Спокойно двинулся вперёд, взял мужика за ворот тот отлетел к перилам.
В доме пахло сыростью, плесенью, чем-то кислым. В первой комнате немытая посуда, горы мусора, пустые бутылки. Во второй…
На железной кровати она. Маленькая, иссохшая, седые волосы, лицо усталое, синие круги под глазами. Но это она Тамар Эвьон, научившая держать отвёртку и верить в себя; отдавшая последние деньги и велевшая стать человеком.
Она открыла глаза, взгляд был затуманенным.
Кто здесь? слабый, надломленный голос.
Это я, Тамар, Итай. Бен-Шимон. Помните? Который вам всё чинил.
Долго смотрела, моргала, потом глаза заблестели слезами.
Итай прошептала. Вернулся Большой стал. Человек…
Человек, Тамар. Благодаря вам.
Он завернул её в одеяло, лёгкое, почти невесомое, прижал к себе. От неё пахло болезнью и сыростью, но под этим всё тот же аромат старых книг и хозяйственного мыла.
Куда мы? испугалась она.
Домой, ко мне. У меня тепло. И книг много. Вам понравится.
У выхода мужик попытался встать на пути:
Эй, куда ты её несёшь? Документы давай! Она мне дом оставила, я за ней ухаживаю!
Итай посмотрел спокойно, без злости. Мужик отступил.
Моим адвокатам расскажешь, что она тебе оставила. И в полицию сходишь. Если выяснится обман я прослежу, чтобы дали по полной. Понял?
Тот сразу кивнул.
Разбор длился долго: экспертизы, суды, бумаги. Полгода понадобилось, чтобы признать дарственную недействительной Тамар не осознавала её смысл. Мужик оказался мелким мошенником, уже судимым. Квартиру вернули, его отправили в тюрьму.
Только Тамар квартира уже не нужна.
Итай построил дом. Большой, деревянный, в пригороде Кармиэля. Не виллу, а настоящий дом кедровый, с большими окнами. Тамар жила на первом этаже, в самой светлой комнате. Её лечили лучшие врачи, помогала сиделка, питание было правильное. Она немного поправилась, даже румянец появился. Память не до конца вернулась путает даты, лица, но характер остался прежним. Начала читать, снова командовала домашними, гоняла сиделку.
Опять паутина в углу? Это дом или сарай? ворчала она.
Итай улыбался.
На этом он не остановился.
Однажды вернулся с работы не один. Вышел парень худой, настороженный, со шрамом на щеке, в чужой, великой одежде.
Вот, Тамар, сказал он, познакомьтесь. Это Лев. На стройке появился, жить негде, из детдома, восемнадцать только исполнилось. Руки золотые, а в голове ветер.
Тамар отложила книгу, поправила очки, осмотрела парня с головы до ног.
Чего стоишь, как соляной столб? Руки мыть и за стол. Там мыло хозяйственное. Котлеты у нас сегодня.
Лев удивлённо посмотрел на Итая. Тот подмигнул и кивнул.
Через месяц в доме появилась девочка, Гали. Двенадцать лет, прихрамывает, голову не поднимает. Матьлишили родительских прав. Оформил опеку.
Дом наполнился. Не ради других глаз, а по-настоящему: семья для тех, кто не нужен. Семья обиженных, нашедших друг друга.
Семья.
Итай смотрел, как Тамар учит Льва строгать деревяшку, стуча по рукам линейкой. Как Гали читает вслух книгу, робко, но читает.
Итай! кричала Тамар, ты чего застыл? Помоги! В шкафу порядок навести надо, молодёжь сама не справится!
Уже иду.
Он шёл к ним, к своей неровной, странной, сложной семье. Впервые за сорок лет понимал: он не лишний, он наконец на своём месте.
Ну что, Лев, спросил он вечером, когда все уснули, как тебе тут?
Парень задумчиво глядел на небо звёзды были близкие, северные, совсем как в детстве у Итая.
Нормально Только, странно. Зачем вы это делаете? Я же никто.
Итай сел рядом, достал яблоко, протянул.
Однажды мне сказали: «Просто котёнок родится»
И что значит?
Ничего не бывает просто так всё к чему-то ведёт. Ты здесь не случайно. Я тоже.
В комнате Тамар горел свет снова читала до ночи, несмотря на врачей.
Спокойной ночи, Лев. Завтра много дел забор будем чинить.
לילה טוב, Итай.
Он остался один на веранде, слушая настоящую тишину: ни криков, ни ссор, ни страха только сверчки и шелест.
Он знал всех не спасёшь. Но этих спас. И Тамар спас. И себя.
И пока этого хватало.
А утром он встанет и пойдёт дальше. Как когда-то научила она.